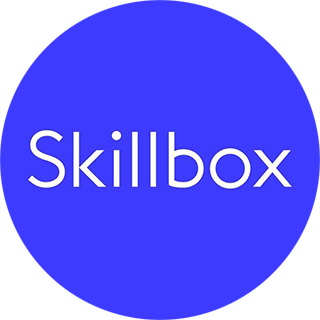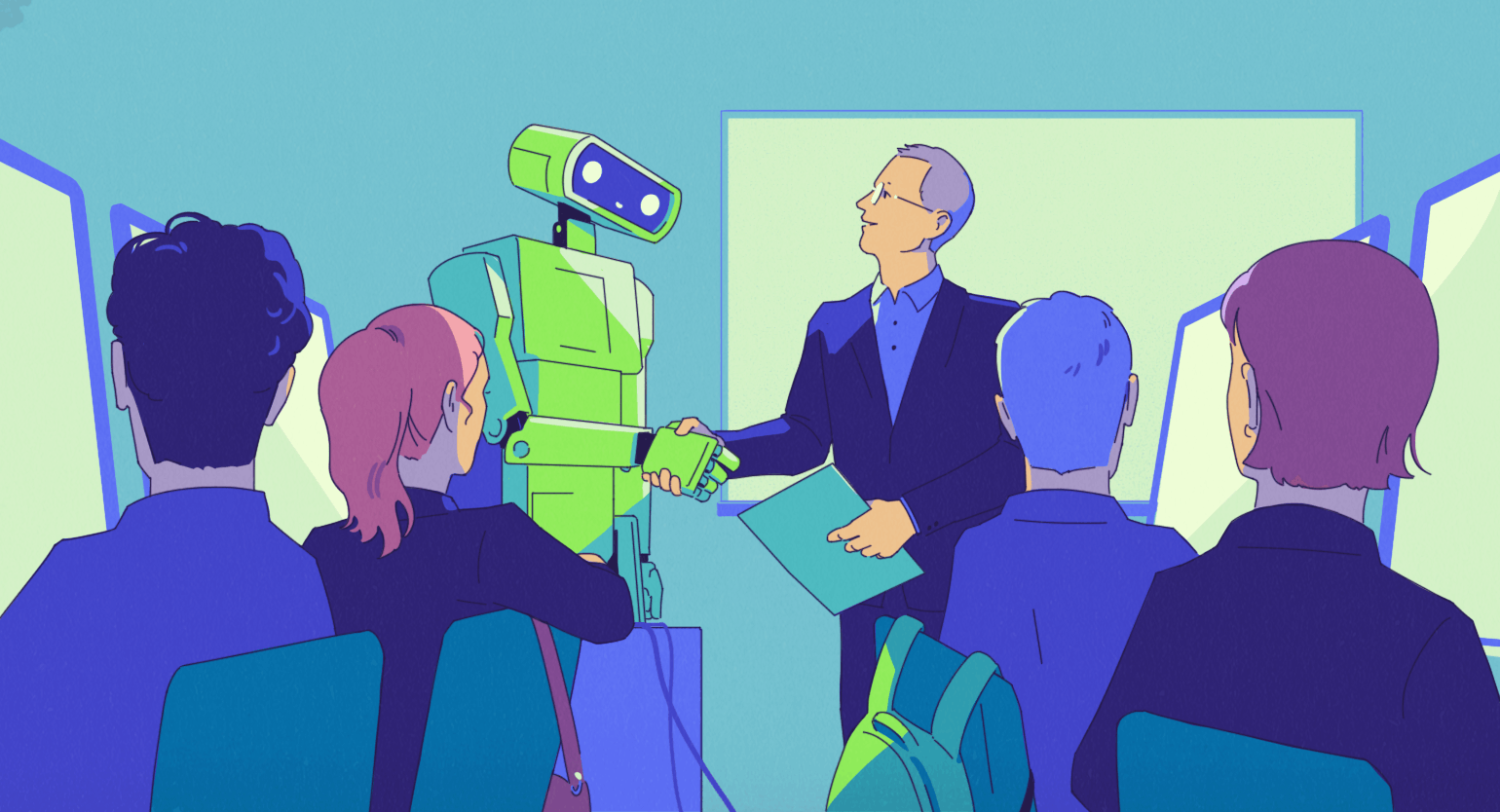Подкасты об образовании, EdTech и корпоративном обучении: подборка за конец лета 2025-го
Собрали не только самые классные выпуски августа, но и несколько июльских.


Какие механизмы помогают мозгу учиться и когда внешние раздражители этому не мешают
Кто: кандидат биологических наук, директор НИИ мозга и высших достижений РУДН, сотрудник и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности Вера Толченникова.
Где: на мероприятии «СберУниверситета» «Код обучаемости: как меняться во времена перемен?».
Про что: про импринтинг, подражание, инсайты, метод проб и ошибок, а ещё про концепцию, которой уже 100 лет, но именно сейчас она стала очень актуальной.
Это запись двухчасового офлайн-мероприятия с несколькими спикерами, которое организовал в июле «СберУниверситет» на одной из площадок проекта «Лето в Москве». Пожалуй, для профессионалов в образовании наибольший интерес представляет короткая лекция нейрофизиолога Веры Толченниковой (оно начинается на восьмой минуте видеозаписи). Вера рассказала про современные научные представления об основных механизмах формирования навыков:
- импринтинг (запечатление) — устойчивые ассоциации с ранним жизненным опытом;
- подражание, то есть воспроизведение действий окружающих путём наблюдения и копирования (благодаря этому мы учимся на чужом опыте);
- метод проб и ошибок — отбор успешных стратегий поведения путём повторений и анализа последствий каждого шага;
- инсайт (озарение) — мгновенное осознание правильного решения;
- жёсткое обусловливание — этот метод обучения можно условно назвать «есть только одно верное решение»;
- свободный выбор — метод, формирующий креативность и гибкость.
А ещё она коротко затронула концепцию доминанты российского физиолога А. А. Ухтомского, которая сейчас, спустя 150 лет со дня его рождения, стала невероятно актуальной из-за того, что мы живём в эпоху перегрузки информационными потоками. Лучше посмотрите это объяснение в записи, но если коротко, то суть в том, что когда у человека формируется стабильная доминанта, связанная, например, с работой, учёбой или другой целью, то обилие отвлекающих стимулов уже не мешает, а, наоборот, подпитывает. Пока же доминанта не сформирована, внешние стимулы мешают (поэтому у детей во время урока лучше забрать гаджеты с доступами к играм и соцсетям).

Читайте также:
Как учить зумеров, если привычные подходы и методы не работают
Кто: методолог и бизнес-тренер Алексей Каруна.
Где: в записи вебинара компании «Ракурс».
Про что: почему перестали работать проверенные временем подходы к преподаванию и на что их заменить.
Алексей Каруна сначала перечислил ключевые «сдвиги», по причине которых прежние, проверенные временем подходы к преподаванию утратили эффективность. Во-первых, новая аудитория не ищет, чего бы им «взять» и усвоить, а живёт в парадигме: «Я сканирую, и вы либо попадаете, либо не попадаете в зону моего внимания». Это принципиально другая модель входа в обучение. А преподаватели старой школы продолжают действовать по модели: «Я даю — вы получаете», меняя разве что стиль подачи (пытаются общаться на молодёжном языке, применять больше технологических фишек, но не саму модель).
Во-вторых, у преподавателей больше нет авторитета по умолчанию. Сейчас доверие возникает, только если вы оказываетесь полезны в первые же минуты. Аудитория слушает и примеряет к себе: это как-то встраивается в мою реальность или что-то абстрактное? Если доверие не удаётся завоевать сразу, то студент когнитивно отключается — и всё, можно стараться сколько угодно, но вас уже нет в его канале восприятия.
В-третьих, больше нет линейности восприятия. Традиционная педагогика была построена на последовательности: идти от общего к частному, от базовых понятий к сложным, от теории к практике. Но современное мышление стало фрагментарным, скачкообразным. Обучение уже не дорога, а сеть: тут кусочек информации, там обрывок, где-то ещё что-то — и попытка всё это связать.
Дальше Алексей перечислил конкретные приёмы, которые из-за этих «сдвигов» больше не работают, и привёл те, которые работают. Например, не стоит, по его наблюдениям, начинать занятия с посыла: «Сегодня мы разберём тему...» Надо сразу задать близкий аудитории контекст: «Представьте, что вы в такой-то ситуации и вам нужно найти решение». Учебный процесс нужно строить не линейно, а как «фрагментацию с замыканием». Каждый фрагмент (смысловой модуль) — со своим входом, напряжением и замыканием.

Читайте также:
Почему смысл образования современным подросткам не очевиден
Кто: кандидат педагогических наук, старший преподаватель Института образования НИУ ВШЭ Екатерина Павленко.
Где: в подкасте «Здравствуй, племя молодое!» Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ.
Про что: как на смысл образования смотрит социология культуры.
Екатерина Павленко представляет направление социологии культуры — в нём, как она объясняет, принято в первую очередь смотреть на то, какой смысл люди вкладывают в то или иное явление. Так, образование веками имело смысл социального лифта и института, который готовит детей к взрослой жизни, даёт им необходимые знания и навыки.
В подкасте обсуждается, как так вышло, что связь школы и жизни потерялась, и какую роль в жизни современных подростков (а подкаст в целом посвящён именно подростковому периоду) может играть образование, если актуальную информацию проще получить где-то в другом месте.
Несколько раз звучит термин «символические горизонты» — так в социологии культуры называют пространства и роли, о которых человек думает как о реальных и доступных для себя (пусть и теоретически). Ведущая и гостья подкаста обсуждают, что, с одной стороны, очевидно — образованию необходимо расширять кругозор учащихся, раздвигать их символические горизонты. С другой стороны — необходимость выбирать иногда становится для детей тяжёлой обязанностью.
Что не так со школой и может ли научить детей думать «мадам Козявкина в летних турнюрах»?
Кто: писатель, литературовед, доктор филологических наук, ранее — профессор МГПУ Евгений Жаринов и Юлия Подколзина, до недавнего времени работавшая учителем в школе.
Где: на канале Павла Костина о культуре и литературе.
Про что: что не так в современной школе по сравнению с советской.
Это был большой разговор о ключевых проблемах нынешней школы и сравнение, что было устроено по-другому в школе советской (и даже в школе 1990-х) — почему там не было тех же проблем, почему она гораздо больше давала детям. Спойлер: дело не только в программе и методах, но и в положении учителей тогда и сейчас.
Как обычно бывает в длинных беседах, в процессе затронули много других тем. Одна из сквозных — про разницу между учителями, которые любят свой предмет, и теми, кто попал в профессию случайно, а лучше бы «пекли пироги» или «пошли в таможенники». В связи с этим Евгений Жаринов вспомнил грустный факт: когда только вводили ЕГЭ, ожидалось, что главное сопротивление будет от учителей литературы, что они возмутятся: «ЕГЭ убивает чтение — не надо по-настоящему читать, по-настоящему анализировать, думать». Но случилось наоборот: многие учителя с радостью это приняли! Потому что для них самих это означало облегчение — не нужно действительно работать с текстом, погружаться в него. Ведь и сами педагоги, положа руку на сердце, далеко не все к этому склонны, а на досуге предпочитают лёгкое бульварное чтиво.
Ещё в этом выпуске обсудили:
- Почему выпускное сочинение в советской школе было «месседжем» миру, и в нём, сами того не понимая, ребята в каком-то смысле предсказывали свою судьбу.
- Что не так сейчас с устными собеседованиями в 9-м классе: проверяют устную речь, но самой устной речи в школе не учат.
- Как всё-таки учить детей читать и почему важно учить писать свои истории, а не пересказывать чужие.
- Могут ли аудиокниги быть альтернативой чтению.
- Почему сейчас школьное обучение стало похоже на игру «Угадай мелодию», а настоящее образование должно включать... страдание.
Что главное в начальной школе: мнение учителя
Учителей-мужчин в российских школах работает крайне мало, а уж в начальных классах они вообще практически не встречаются. В большинстве мест, где работал гость этого подкаста, его коллегами по начальной школе были исключительно женщины. Но, как уверен и сам Кирилл Арефьев, для профессиональных результатов пол не так важен.
В интервью гость подкаста рассказывает, как стал учителем и как завёл блог, а также отвечает на вопросы ведущих об общих задачах начальной школы. Как считает педагог, в теории большинство родителей могли бы и сами пройти с детьми программу начальных классов — специальных предметных знаний она требует не так уж много. Но именно в первые годы школы дети учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми в разной обстановке, в том числе в «деловой», и этот процесс нужно уметь организовать.
Среди других тем выпуска — запрет на телефоны для учеников начальных классов, предметы, которых в школе не хватает, учительский стресс и зарплаты.
Какими общими проблемами могут поделиться учителя из России и из США
Кто: преподаватель латинского языка в частной школе в штате Нью-Джерси Венди.
Где: в подкасте «Преподы тоже люди».
Про что: как устроена повседневная работа учителя в американской школе и чем она отличается от российских реалий.
Обсуждение в этом подкасте формально посвящено широкой теме — сравнению подходов к образованию в России и США. На деле, конечно, ведущая и гостья обмениваются собственным профессиональным опытом. Потому спектр поднимаемых тем ограничен — это сравнение государственных и частных школ США и собственные школьные воспоминания ведущей подкаста Натальи Курыновой (она студентка и частный репетитор по английскому языку, в школе пока не работала).
Тем не менее послушать всё равно интересно, чтобы оценить, насколько трудности педагогов, о которых говорит Венди, универсальны для разных стран. Поддерживать дисциплину на уроках и вовлекать в учебный диалог школьников, которые растут в постоянном взаимодействии со смартфонами и планшетами, в США ничуть не проще, чем в России. Как и в России, частные школы в США могут позволить себе преподавание в классах поменьше. Есть, конечно, и различия в плане взаимодействия учителей с родителями — но и тут российская практика, кажется, всё больше сближается к американской.
Выпуск изначально выходил на английском, опубликованная в августе версия — полный перевод на русский язык.
Почему обучение в вузах стало стоить миллионы и что будет после сокращения платных программ
Кто: доктор экономических наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов, проректор МАДИ и первый заместитель председателя комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Андрей Платонов, лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева, председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы, доктор исторических наук, профессор Мария Лазутова.
Где: запись эфира круглого стола в ВК-паблике «Вечерней Москвы».
Про что: как высшее образование становится роскошью.
Поводом к этому круглому столу стала новость о том, что ведущие вузы России подняли стоимость на обучение, на некоторых направлениях — минимум на 25%. Ведущий привёл шокирующий факт в начале встречи: в Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных в этом году на «Лечебное дело» составит почти 7 миллионов рублей.
Откуда такие цены? И почему такой разброс цен в разных вузах, на разных направлениях? И нормально ли вообще то, что половина студентов учится платно, если для большинства это непосильные расходы? «Если есть нужда во врачах, то почему платники? Мы сами себе противоречим. Можно и нужно менять многие вещи», — заметила Мария Лазутова.
Причин роста цен, как пояснили гости студии, сразу несколько, и это далеко не только инфляция. Вузы просто вынуждены решать нехватку средств за счёт платников. А разброс цен объясняется и разной силой бренда вузов, и тем, что в каком-то образовании нужны только аудитории, а в другом — сложное оборудование, лаборатории, макеты, симуляторы и так далее. При этом, как согласились все эксперты, парадокс в том, что «качество образования и цена — это разные вещи».
Параллельно затронули несколько связанных тем. В частности, то, что внебюджетники «не учатся, не посещают занятия», и это ненормально — ко всем студентам должно быть равное отношение. И про проблему образовательных кредитов: да, с одной стороны, это удобно, но с другой, как заметила Инна Гориславцева, есть плохое последствие для демографии: пока выпускник не рассчитается с этим кредитом, он не сможет себе позволить семью и детей. Она же озвучила чёткий тренд последних лет: «На высшем образовании свет клином не сошёлся». Вместо того чтобы два года натаскивать на ЕГЭ ребёнка, у которого успехи не очень, лучше идти в колледж, а потом либо работать, либо поступать на сокращённые программы вуза.
Могут ли онлайн-школы расти на сегодняшнем рынке или все возможности исчерпаны?
Кто: основатель каталога образовательных учреждений KEDU Илья Бородин.
Где: в подкасте KEDU EdTech.
Про что: какая ситуация сложилась в онлайн-образовании и почему.
Те, кто работает в EdTech-компаниях, вряд ли услышат в этом выпуске что-то новое, но специалистам из других ниш этот подкаст поможет обобщить информацию об актуальных трудностях онлайн-обучения.
С точки зрения Ильи Бородина, на российском EdTech-рынке действительно сложилось избыточное предложение: столько образовательных продуктов, сколько создали за последние годы, просто не нужно. Поэтому, уверен он, даже если трудности с каналами привлечения и продажами в рассрочку окажутся временными, взрывной спрос времён пандемии уже не восстановится. И спрос на кадры по цифровым профессиям не такой высокий, и неохваченных онлайн-обучением клиентов осталось мало. Прогноз следующий: конкуренция продолжит расти, требования и ожидания студентов от качества курсов — тоже.
Как при подготовке учебной программы учесть позиции всех стейкхолдеров (и кто это вообще такие)
Кто: методист и методолог, PhD по наукам об образовании и автор телеграм-канала «На старт, внимание, курс» Саша Осипова.
Где: в подкасте платформы True Education «Трулала».
Про что: какие принципы работы с заказчиками, ключевыми аудиториями и другими стейкхолдерами стоит учитывать в корпоративном обучении, EdTech и даже формальном образовании.
В этом выпуске Саша Осипова на своём профессиональном опыте (а она преподавала в НИУ ВШЭ и работала с «Яндексом», VK, Kaspersky Lab и другими ведущими компаниями) объясняет, как не оказаться в ситуации, когда программа обучения разработана в полном соответствии с требованиями заказчика, но совершенно не подходит реальной аудитории. Или привлекает аудиторию, но выглядит дилетантской для экспертов отрасли. Или построена хорошо методически, но не решает имиджевую задачу, для которой она на самом деле требовалась заказчику.
Эксперт советует для каждого проекта расписывать матрицу стейкхолдеров — своего рода пространство координат, в котором все заинтересованные группы распределены, в частности, по тому, насколько они вовлечены в разработку обучения и насколько могут повлиять на его судьбу. Чтобы было проще ориентироваться в матрице, Саша Осипова предлагает для каждой группы название из мира Гарри Поттера: от призраков до оборотней.
Суть в том, что при создании обучения важно мнение не только непосредственного заказчика или будущих учащихся, но и других групп, которые будут с курсом соприкасаться или работать. Конечно, необходимость выяснять интересы и степень влияния множества разных групп существенно усложняет разработку. Но если этого не сделать, можно действительно столкнуться с тем, что обучение работать не будет — например, нормальные с точки зрения экспертов задания окажутся непосильными для всех студентов. В выпуске гостья и ведущая делятся, кстати, и такими историями.
Кейс: как оценивают эффективность обучения сотрудников в СДЭК
Кто: руководитель проекта по обучению партнёров в СДЭК Мария Дешевых.
Где: на вебинаре проекта «HR-кухня».
Про что: о работающих в компании метриках эффективности корпоративного обучения.
На этом вебинаре эксперт из СДЭК делится опытом встраивания корпоративного обучения в процессы компании. Ключевой подход — «Обучение за 10 дней», при котором курс разрабатывается и проводится параллельно с процессом внедрения каких-либо изменений. И при оценке эффективности изменений, соответственно, замеряют результат всего проекта (например, внедрения нового скрипта в отделе продаж), а не обучения отдельно.
При этом в СДЭК собирают много стандартных метрик — по удовлетворённости обучением, доходимости до его конца, по остаточным знаниям после курса или тренинга. Есть и обязательная аттестация сотрудников. Один из важных показателей — своевременность обучения (пройдены ли, к примеру, вводные курсы за период адаптации новичка).
Но ключевым всё-таки становится сравнение показателей работы тех сотрудников, кто обучался и кто этого не делал. Это сравнительно новый подход для компании, но первые исследования показали, что прохождение курсов влияет на показатели эффективности и на число увольнений в разных группах сотрудников — от курьеров до менеджеров по продажам в офисах. Пока неясно, что тут причина, а что следствие: возможно, люди, настроенные остаться в компании надолго, активнее занимаются обучением и потом работают эффективнее, а не учатся те, кто изначально рассматривал эту работу как временную.
В заключение Мария Дешевых отметила, что хотя в СДЭК стараются проследить влияние обучения на эффективность разных процессов, они с коллегами отказались от стремления всё оценивать экономически. С её точки зрения, идея посчитать ROI (индекс возврата инвестиций) по каждому тренингу — отражение внутренней потребности функции обучения подтвердить свою эффективность, а бизнесу такие данные не нужны. Предотвращённый риск, поддержанную репутацию компании, удовлетворённость сотрудника не всегда стоит считать в деньгах.