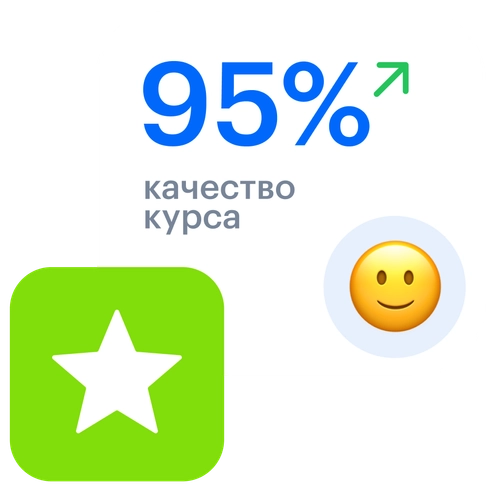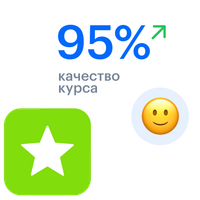Былое: «Учись хорошо, а то съем», или Первый день Паустовского в гимназии
Первые детские впечатления были ужасны, но во взрослом возрасте писатель вспоминал свою школу с теплотой. Кстати, его однокашником был Булгаков.


«Я ушёл с мамой. Всё время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда.
Мы жили тогда на тенистой и тихой Никольско-Ботанической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, тёплый, но с прохладной тенью — обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и всё время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча.
Когда мы дошли до Николаевского сквера и я увидел сквозь его зелень жёлтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться и что труд мой будет горек и долог и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома…
Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слёзы душистым платком.
— Перестань, — сказала она. — Ты думаешь, мне самой легко? Но так надо.
Так надо! Никакие слова не входили до тех пор в моё сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой: „Так надо“.
Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить «так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится». Я долго не мог примириться с этим и спрашивал взрослых: неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю.

Фото: Музей К. Г. Паустовского
А мама однажды сказала отцу: „Это всё твоё анархическое воспитание!“ Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал:
— Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме.
Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стёртая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.
— Не пугайся, — сказала мне мама. — Это большая перемена.
Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:
— Привели ещё одного несчастного кишонка!
Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.
Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зелёную треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.
Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому — тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.
Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:
— Учись хорошо, а то съем!
Мама принуждённо улыбнулась. Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс.
Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повёл по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал моё плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.
В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии — столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Фото: Wikimedia Commons
Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.
Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнёзд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нём и трудиться, как в большом саду».
Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету „зубровку“ и сказал с польским акцентом:
— Съешь этот цукерок на следующей перемене.
Я поблагодарил его шёпотом и взял конфету. Первые дни в гимназии я говорил шёпотом и боялся поднять голову. Всё подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный — пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.
Он был мягкий, просвещённый человек, но его почему-то полагалось бояться».
Источник: Константин Паустовский. Далёкие годы (Повесть о жизни).
Контекст
Такое количество слёз вызвало у маленького Константина Паустовского, будущего знаменитого писателя (1892–1968), поступление не куда-нибудь, а в подготовительный класс престижной Первой классической киевской гимназии. Он стал её учеником в начале 1900-х. Отношение к детям в подобных школах тогда было очень строгим, от гимназистов требовалось соблюдение множества правил, и встроиться в такую атмосферу после дружелюбной и заботливой семейной ребёнку было трудно. Непросто было и найти своё место в детском коллективе.
Как описывает Паустовский, над «кишатами» издевались старшие — например, они могли силой удерживать их во время звонков на уроки, чтобы те опоздали и были наказаны за это учителем. Насилие, впрочем, воспринималось как норма: в старших классах шли постоянные бои между отделениями, одно из которых считалось «аристократическим», потому что там учились сыновья генералов, помещиков и чиновников, а второе — «демократическим», для отпрысков разночинцев и интеллигенции. К «демократическому» принадлежал и Паустовский. Кстати, его одноклассником был Михаил Булгаков, и, по словам Паустовского, в боях между этими двумя отделениями юный Миша неизменно оказывался в рядах победителей.

Фото: Wikimedia Commons
Хотя Паустовский предпочитал не участвовать в тех драках, изгоем он не был, в конце концов освоился в гимназии и по окончании вспоминал её даже с теплотой. Также он считал неслучайным, что многие его однокашники стали потом известными людьми искусства. Кроме Булгакова — например, драматург Борис Ромашов, режиссёр Иван Берсенев (в разные годы был директором и художественным руководителем Первой студии МХТ и Театра имени Ленинского комсомола в Москве), певец Александр Вертинский.
«Нашему выпуску повезло: у нас были хорошие учителя так называемых „гуманитарных наук“ — русской словесности, истории и психологии. Почти все остальные преподаватели были или чиновниками, или маньяками. Об этом свидетельствуют даже их прозвища: „Навуходоносор“, „Шпонька“, „Маслобой“, „Печенег“. Но литературу мы знали и любили и, конечно, больше времени тратили на чтение книг, нежели на приготовление уроков», — писал он.
После гимназии Паустовский учился на естественно-историческом факультете Киевского университета, затем перевёлся на юридический факультет Московского университета. И это тоже преимущество хорошего школьного образования, потому что поступить в университет тогда можно было, лишь сдав экзамены за курс классической мужской гимназии.
При этом учёба в гимназии далась будущему писателю непросто. Когда Паустовский был в шестом классе, отец оставил его мать с детьми и долгами. Хотя формально он уехал в другой город зарабатывать деньги, вскоре выяснилось, что у папы «другие привязанности» — он попросту сбежал. Помимо горя разлуки, эти события повлекли унижения бедности. Мать Паустовского была вынуждена уговорить руководство гимназии обучать её сыновей (у Кости было два брата) бесплатно. Мальчик этого стыдился.
Вскоре Костя разлучился и с остальной семьёй: чтобы спасти от нищеты, его отправили в Брянск, где он мог жить на попечении своего дяди. Там мальчик стал учиться в местной гимназии, но прижиться в ней не смог и мечтал вернуться в Киев.
«В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему всё, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.
«С нового учебного года, то есть с осени, — писал Субоч, — вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь — tempora mutantur et nos mutamur in illis, — надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».
Я прочёл это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и ещё понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь», — писал Паустовский в «Далёких годах».

Фото: Wikimedia Commons
Вернувшись, юный Костя стал совмещать учёбу в гимназии с работой репетитором. Но при такой нагрузке смог увлечься и творчеством. В автобиографии Паустовский вспоминал, что свой первый рассказ написал, учась в последнем классе. Тогда же его напечатали в литературном журнале. Кстати, такими же сложными и сопряжёнными с самостоятельным заработком были и гимназические годы юного Антона Чехова.
Получается, тревожные предчувствия первого дня гимназической жизни Кости Паустовского не обманули его — действительно, в школьные годы его жизнь изменилась и прежняя беззаботность не вернулась никогда.
Но Первая классическая киевская гимназия, несмотря на свои недостатки, в конце концов стала домом, в котором будущего писателя приняли как родного и помогли встать на ноги.